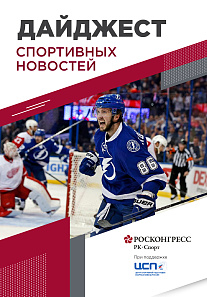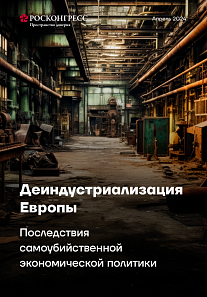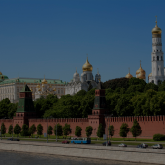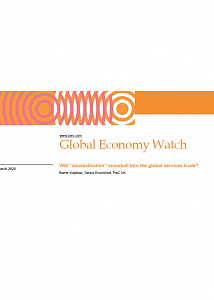Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2021 «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?».
Автор: Зайцев Александр Андреевич, кандидат экономических наук, заместитель заведующего сектора международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Мировая экономика постепенно восстанавливается после первого года пандемии: по данным МВФ, мировой ВВП вырастет на рекордные за последние десятилетия 6% в 2021 г. после провала в 3.5% в 2020 г. Несмотря на появление новых штаммов вируса и новых волн заражений, страны в целом адаптировались к жизни в условиях пандемии и реагировании на новые возникающие вспышки.
В России также происходит постепенная адаптация к сложившейся ситуации, и вновь на первый план встают вопросы обеспечения ускоренного экономического роста. Текущие низкие долгосрочные потенциальные темпы роста России в 2% в год по сути обрекают нашу страну на падение относительного среднемирового уровня доходов, который будет расти на уровне 3-3.5% в год, и означает лишь стабилизацию уровня жизни в сравнении с развитыми странами на уровне 40-50% от США и развитых стран Европы.
Что принес текущий кризис России и как выходить из него? Какие источники можно было бы использовать для повышения потенциальных темпов роста? Необходимы ли новые инструменты политики или достаточно решения задач и проблем российской экономики, которые существовали еще до кризиса COVID-19?
В 2020 г. относительно небольшие на фоне других стран мира макроэкономические потери в России сопровождались серьезными человеческими потерями, которые стали очевидны из статистики смертности только к концу года. Спад ВВП составил 3% — это лучше, чем по миру в целом (-3.5%). При этом впервые с начала 1990х годов Россия пережила более мягкую рецессию, чем мировая экономика, при том, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен. С другой стороны, избыточная смертность была рекордной по приросту смертей с периода массового голода 1947 г. (рост числа смертей на 18.1% к 2019 г. или на 323.8 тыс. человек [1]), а среди стран G20 и ЕС Россия на втором месте после США [2][3]. И оценивая общие итоги года, нельзя забывать про эту трагическую статистику.
Негативная динамика ВВП примерно наполовину объясняется собственно пандемией [4], а другая половина спада связана со слабой диверсификацией российской экономики — её сырьевой направленностью. При этом в России не было такого жесткого и продолжительного локдауна, как в развитых странах — промышленность продолжала работать без существенных сбоев. Но и воздействию карантинных мер Россия подвержена гораздо в меньше степени из-за своих структурных особенностей: из-за меньшей доли малого бизнеса (20% против 50-60% в развитых странах) и более низкой доли сферы услуг, которая сильно страдает в текущий кризис.
Произошел рост безработицы (на 27% по итогам года до 4.4 млн. человек или до 5.9% от рабочей силы [5]), небольшое усиление неравенства (в пандемию пострадали работники более низкой квалификации) и снижение склонности к потреблению у более состоятельных граждан. В результате это привело к серьезному сокращению конечного потребления домашних хозяйств (на 8,6%), что сопоставимо со спадом 2015 г., и почти вдвое выше спада 2009 года [6].
Как и во всех странах, наблюдалась значительная неравномерность динамики по отраслям экономики в 2020 г.: платные услуги населению упали на 17.1% (в т.ч. гостиницы и общественное питание упали на 24%), добыча полезных ископаемых — на 6.9% (эффект сокращения добычи из-за сделки ОПЕК и общего спроса на энергоносители в мире), розничная торговля — на 4.1%, при этом обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и оптовая торговля демонстрировали стабильность или рост до 1.5%.
Таким образом, спад экономики из-за коронавируса в России был гораздо меньше, чем в развитых странах, а половина этого спада связана с сырьевой зависимостью российской экономики. В этой связи представляется, что набор антикризисных мер должен состоять из двух блоков.
Первый блок «оперативных» мер, который в целом уже реализован российским Правительством, должен быть направлен на смягчение «стандартных» негативных эффектов пандемии с целью возвращения экономики в стабильное состояние. К этим эффектам относятся рост безработицы в сфере услуг, потери малого и среднего бизнеса, рост уровня закредитованности. Стоит отметить, что эти эффекты в России были несравнимо меньше, чем развитых странах. Оперативные меры должны быть направлены на поддержку пострадавших социальных групп и отраслей экономики.
Второй блок антикризисных мер должен быть ориентирован на долгосрочную перспективу и связан с рядом концептуальных изменений в подходе к экономической политике, стратегировании и управлении, которые направлены на изменение модели развития, формирование более диверсифицированной экономики и устойчивого долгосрочного роста. Долгосрочные меры должны быть направлены на решение «вечных» проблем России, таких как исчерпавшая себя модель развития, основанная на добыче ресурсов; все еще низкая диверсификация экспорта и существенная зависимость России от импорта машиностроительной продукции, что делает экономику чувствительной к колебаниям внешней конъюнктуры; невысокое качество стратегического управления и отсутствие долгосрочной последовательной стратегии экономического развития, сопряженной с отраслевыми программами. Представляется, что пандемия обостряет именно эти проблемы России, но не приводит к появлению новых серьезных проблем и рисков, как в развитых странах (рост госдолга и связанные с этим риски развития банковского и фин. кризиса, высокая безработица в сфере услуг). Безусловно, пандемия формирует и новые тренды, которые необходимо учитывать при формировании долгосрочной политики (мировая климатическая повестка, связанные с ней риски и возможности для российской экономики, ускоренный рост цифровизации и пр.). Однако, без решения давних структурных проблем учет новых трендов не будет иметь эффекта.
Перестройка модели экономического развития и диверсификация экономики.
Мировой исторический опыт демонстрирует, что кризис — это не только «тушение пожара», но и хороший повод для принятия стратегических, долгосрочных решений. Кризис COVID-19 со всей очевидностью продемонстрировал уязвимость традиционной сферы услуг, глобальных цепочек добавленной стоимости, а также неустойчивость не только цен на ключевые энергоносители, но и физических объемов их потребления (такое серьезное сокращение произошло, пожалуй, впервые за последние 30 лет). С другой стороны, явно проявились преимущества цифровизации и значимости человеческого капитала, позволявшие легко перейти на дистанционную работу без потери заработка. Произошел бум экологических инициатив, как важных составляющих выхода из кризиса. В этой связи для России текущий кризис является очередным хорошим моментом для перестройки модели экономического развития на более диверсифицированную.
Необходимо совмещение развития неэнергетических отраслей реального сектора (включая машиностроение), в которых есть определенный потенциал рационального импортозамещения и формирования конкурентоспособных производств, с развитием инновационной экономики знаний, основанной на высоких требованиях к уровню человеческого капитала. При этом перестройка модели развития не отменяет необходимости усиления конкурентных преимуществ в традиционном для России нефтегазовом и энергетическом секторе (включая атомную энергетику). Есть существенный потенциал формирования целых отраслевых кластеров вокруг нефтегазовой отрасли (по аналогии с опытом Норвегии), сельского хозяйства, лесной промышленности и других традиционных для России специализациях.
Необходимость долгосрочной стратегии экономического развития.
Успешный исторический опыт послевоенного восстановления Франции, экономического чуда в Японии, текущий опыт быстрого экономического роста Китая и Малайзии демонстрируют важность государства, как ключевого источника стратегических инициатив и эффективность инструментов стратегического планирования в развитии перспективных отраслей и поддержании роста. В России же сформировалась парадоксальная ситуация сочетания высокой доли госсобственности и низкой роли государства в планировании развития. Магистральная стратегия экономического развития пока так и не принята, а заявляемые приоритеты не доводятся до окончательной реализации, заменяются новыми приоритетами или откладываются из-за наступления кризиса (например, курс на импортозамещение, цифровизация, национальные проекты).
В этой связи необходима разработка долгосрочной стратегии экономического развития, подкрепленной и согласованной с отраслевыми планами развития, которая бы создавала долгосрочные ожидания общества и бизнеса в отношении перспектив и структурной перестройки российской экономики с учетом привлекательных направлений для инвестиций.
Повышение качества стратегического планирования.
Стратегическое планирование — сильный инструмент для обеспечения экономического развития, однако качество стратегического планирования в России пока еще на невысоком уровне. Стратегии и отраслевые планы зачастую не содержат описания инструментов достижения целей, обоснованного набора мероприятий, финансирования. Не всегда проводится мониторинг реализации планов, а появление новых стратегических документов часто заменяет и фактически останавливает реализацию прошлых планов. Нет согласования между отраслевыми стратегическими программами, а также нет согласования программ на федеральном и региональном уровнях.
Необходимо повышение качества стратегического планирования в части методологии разработки и согласованности программ, а также мониторинга стратегических документов. Необходима методология формирования отраслевых стратегий и встраивания новых документов в систему существующих стратегий. Магистральные приоритеты развития должны быть подкреплены соответствующими отраслевыми планами. Важно, чтобы была организована систематическая работа по мониторингу реализации планов, ревизии задач и приоритетов с учетом новых мировых трендов, обновления программ развития. Иначе говоря, необходима система институтов, поддерживающих экономический рост, по примеру системы институтов догоняющего развития, применявшихся как в странах экономического чуда, так и нынешних быстрорастущих Китае, Малайзии, Вьетнаме [7].
Качество институциональной среды.
В рамках настоящей сессии и других дискуссий Петербургского экономического форума неоднократно звучал тезис о том, что многие проблемы и ограничители роста российской экономики лежат во внеэкономической плоскости.
Это действительно является очередной «вечной» проблемой российской экономики, в отношении которой должна вестись планомерная работа. Идет речь о важности совершенствования судебной системы и соблюдения прав собственности, снижения уровня коррупции, развития конкуренции, сокращения административной нагрузки на бизнес, снижения предпринимательских рисков, сокращения избыточного государственного регулирования, обеспечения прозрачности и конкурентности государственных закупок.
Совершенствование качества институтов, безусловно, важная задача, но, по опыту других стран, разрешение институциональных проблем и несовершенств требует долгосрочных усилий — на горизонте не менее 10 лет. Это означает, что рассчитывать на «плоды» от институциональных изменений, при условии успешности самих мер, возможно, в лучшем случае, только в 2030-е годы. В этой связи работу по совершенствованию институциональной среды важно вести параллельно с реализацией стратегических и структурных инициатив, эффекты от которых уже будут ощутимы в среднесрочном периоде.
[1] Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году // РБК. 18.02.2021. URL: https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5
[2] Article IV Consultation — Press release. Staff Report. Russian Federation. 2020. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2021/English/1RUSEA2021001.ashx
[3] Избыточная смертность в России в 2020 году — худший показатель с 1947 года. Россия в мировых лидерах // VC.RU. URL: https://vc.ru/flood/210333-izbytochnaya-smertnost-v-rossii-v-2020-godu-hudshiy-pokazatel-s-1947-goda-rossiya-v-mirovyh-liderah
[4] Год пандемии: макроэкономические итоги. Центр Развития НИУ ВШЭ. Март 2021. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/448697923.pdf
[5] Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2020 года. Росстат. 2020. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm
[6] Использованный валовой внутренний продукт. Годовые данные (индексы физического объема, в % к предыдущему году). Росстат. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab26.htm
[7] Полтерович В. М. Реформа государственной системы проектной деятельности, 2018-2019 годы. Terra Economicus. Т. 18. №. 1. 2020.
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.